«Книги Средневековья – это огромный xG без голов». Интервью Армена Захаряна: ему футбол помогает воспевать литературу
Поговорила Любовь Курчавова.
Вряд ли вы ждали интервью с книжным блогером на нашем спортивном сайте.
Но литературовед Армен Захарян – особый случай.
Его ютуб-канал «Армен и Федор» посвящен – цитируем описание – «литературе, которая отказывается умирать». Там Армен ярко рассказывает о великих книгах (среди главных героев – Марсель Пруст и Джеймс Джойс) и украшает видео отсылками к футболу.
Например, в выпуске «Топ-10 последних строчек в истории литературы»:
«Примерно половина предложенных сегодня строк встречалась в большинстве списков, ката́логов и каталóгов, которые составляются на сей счет, а половина – никогда. Более того, ко вторым относятся и наши сегодняшние победители, которые заняли первое и второе место, которые, на наш вкус, доминируют в мире последних строчек не хуже, чем «Арсенал» Артеты на поле».
Или в видео «Как Антон Чехов изменил литературу»:
«Опережающий время слишком часто, помимо восхищения потомков, получает осуждение современников. Читатель Чехова, периодически зависавший от его рассказов в воздухе, болтавшийся между верхом и низом, как «Тоттенхэм», согласно известному изречению героя «Залечь на дно в Брюгге», должен был как-то объяснять себе эти странные атмосферные явления. И часто объяснение было не в пользу Чехова».

Это и стало отправной точкой нашего разговора.
Знакомимся с Арменом: как философия Надаля помогала, когда ютуб-канал не взлетал
– Как вы обычно рассказываете о себе тем, кто про вас ничего не знает?
– Не люблю рассказывать о себе – предпочитаю, чтобы это за меня делала моя работа. Стандартная отговорка: «Если вам интересно, кто я и чем занимаюсь, посмотрите несколько видео на литературном канале «Армен и Федор», и вы узнаете обо мне все, что нужно». Тем, кто хочет познакомиться, могу порекомендовать эпизод про эпос о Гильгамеше. Это визитная карточка канала. Видео набрало уже почти миллион просмотров, что для темы, которой я занимаюсь, очень неплохо. По крайней мере, достаточно, чтобы не считать, что я подвел родителей.
А вообще, я литературовед, просветитель. Стараюсь говорить о современности и проблемах, которые актуальны для каждого: выбор в условиях несвободы, смерть и бессмертие, тяга к нему, которая живет в каждом из нас, и – одновременно – невозможность его достичь. Сложные этические решения, которые иногда нужно принимать.
Делаю это через призму великой литературы, поскольку в рамках ее текстов эти вопросы обсуждаются с очень большой глубиной. Когда через призму литературы смотришь на наши сегодняшние вызовы, трудности и невозможности, находишь для себя не только какие-то ответы, но и утешение, помощь, поддержку. Литература меня прежде всего научила тому, что не бывает уникальных положений: люди уже оказывались в таких ситуациях, задавались такими же вопросами и искали ответы. Обращение к их опыту очень целительно.
– Когда вы почувствовали, что хотите делиться книгами и историями о них?
– Мне всегда был интересен углубленный анализ, и однажды я подумал: «Может быть, это заинтересует кого-то еще?»
Канал начался с того, что я попытался придать публичную форму личным, внутренним заметкам. Просто озвучивал внутреннюю литературоведческую кухню.

– Ваш канал не взлетал – полтора года там было несколько сотен подписчиков (сейчас – 350 тысяч – Спортс’’). Что помогало продолжать?
– Недавно мне задавали похожий вопрос. Чтобы на него ответить, я поднял статистику и увидел: в ноябре 2018-го я опубликовал три новых ролика, и на меня подписалось четыре человека. Пропорция была почти «один ролик – один новый подписчик». Любой, кто что-то делает в ютубе, понимает, как это демотивирует.
В тот момент очень поддерживала жена. А еще – то, что я занимался тем, во что верю. Почти два года работал практически в стол. Когда набрал тысячу подписчиков, ощутил: это не безнадежная история, все совершенно точно получится. Важный психологический момент.
Но до тысячи подписчиков прошло два года, а до ста тысяч – четыре или, может, четыре с половиной. По итогам этого времени – совет, который я даю каждому, кто готов его услышать: очень важно заниматься тем, что вам близко и во что вы верите. Заниматься чем-то ради результата – очень рискованно. Результат никогда и ни в чем не гарантирован. Делать ставку на так называемые outcome bias (на конкретный результат – Спортс’’) – всегда гэмблинг, потому что, к сожалению, результат зависит от огромного количества факторов, на которые никак не можешь повлиять.
Это годами происходило с «Ман Сити» в Лиге чемпионов: они несколько сезонов были очевидно лучшей командой мира, но их прошел даже «Тоттенхэм» с отмененным через ВАР голом, а «Реал» превратил 1:0 в 1:3 за считанные минуты. К сожалению, так бывает.
Мне в этом смысле близка философия Рафаэля Надаля. Его ценность – в том, что ты просто стараешься изо всех сил. I try my best, I don’t have more. В один день результат приходит, в другой – нет. На каком-то «Уимблдоне» (в 2007-м – Спортс’’) еще совсем юный [21-летний] Надаль дошел до полуфинала и ждал соперника из четвертьфинала между Джоковичем и Багдатисом. Четвертьфинал Надаля прерывали дождь, гром и молнии. Настоящий апокалипсис. И на пресс-конференции его спрашивают: «Гром, молнии, ливни – вас вообще может что-нибудь остановить в этом году?» Надаль ответил: «Ну, может быть, Джокович или Багдатис». Эта спокойная, ясная философия мне очень близка.
Если бы не злоупотребление этой фразой в последнее время, я бы сказал просто: stay humble. Давайте считать, что именно этот посыл я и хотел передать.

– Как выглядит ваш день? И как часто в нем появляется просмотр футбола?
– С появлением ребенка все довольно сильно изменилось. Раньше я каждый день начинал с часа иностранного языка: мы часто переезжаем, и я учил языки новых стран – или какие-то другие. После рождения ребенка, к сожалению, не успеваю регулярно выделять на это время – теперь, например, стараюсь вылавливать языки из аудиокниг. И вообще с рождением ребенка я многие вещи, которые делал раньше, перевел в аудиоформат.
Сейчас я все свободное время посвящаю работе. У нас типичное родительство в эмиграции – нет бабушек и дедушек, поэтому с ребенком время проводим только мы с женой. Поначалу было очень тяжело, но вообще это, конечно, большое счастье – видеть, как ребенок отзывается на твою заботу, как она для него важна, каким счастливым ребенок может расти, если ты даешь ему то, в чем он нуждается. Ни с чем не сравнимое чувство.
Футбол в эту схему встраивается любопытными способами. У нас есть друзья, у которых тоже есть маленький ребенок. Мы часто ходим друг к другу в гости – и смотрим футбол. Дети играют, мамы следят за ними, папы на подхвате – и параллельно смотрят футбол. Благо, современные сервисы дают возможность поставить матч на паузу. Бывает, вообще смотрим в записи, если игра начинается в неудобное время, – просто делаем все, чтобы не узнать результат раньше времени. Я, например, скрываю каналы, из которых могу что-то раньше времени узнать – Вадима Лукомского или Спортса’’.
С этим есть забавная история: помните легендарный камбэк «Ливерпуля» против «Барселоны»? Я не мог посмотреть этот матч в прямом эфире. Казалось бы, первый матч – 0:3, что там смотреть? Но он настолько был не на 0:3, а «Ливерпуль» даже в том матче был так хорош, что я на всякий случай утром не посмотрел счет и включил запись, не зная результат.

Посмотрел эти 4:0 в семь утра следующего дня. Так что, с одной стороны, я постоянно жалуюсь на то, что у меня особо нет компании для похода на стадион, так как все мои друзья не очень-то увлекаются футболом. Но есть и плюс: счет никто не рассказывает. Я очень внимателен к этому – если решаю, что мне не нужно знать результат до тех пор, пока не посмотрю матч, телефон ставлю в авиарежим.
Самая потрясающая история – про «Игру престолов», которую я смотрел через пару лет после того, как она закончилась. Спойлеры были повсюду: в обучающих роликах по английскому языку, в видео про урбанистику. Но самый забавный спойлер я поймал в футбольном комментарии. Это был Стогниенко. И, кажется, лигочемпионский матч между «Атлетико» и «Баварией», когда «Бавария» весь матч атаковала, а «Атлетико» весь матч держался. Стогниенко сказал: «Никак они не могут пробить эту стену – сколько же драконов нужно, чтобы ее растопить». Так я узнал, что что-то произойдет со стеной и с драконами. Так что иногда не где-то в другом месте ты находишь спойлеры к футболу, а футбол становится спойлером к чему-то еще.
Как Армен полюбил футбол: слезы после поражения Бразилии на ЧМ-1998, любовь к «Интеру» из-за Тольдо (!) и сломанный на коробке палец
– Футбол был частью вашего детства?
– Да.
Родители любили футбол, преимущественно европейский. Если дома включали матч, то, как правило, Лигу чемпионов или чемпионаты мира и Европы. То есть родители не были фанатами футбола, но знаковые матчи отец всегда смотрел, а на турниры сборных подключалась и мама.
Очень хорошо помню свой первый матч – финал чемпионата мира 1998-го в Париже.

Неосознанный, потому что я был совсем маленьким – 9 лет. И болел за сборную Бразилии. Не знаю почему. Наверное, просто понравилась внешность Зубастика. Я очень горько плакал, когда Франция выиграла 3:0. Родители сказали: «Не переживай, будет следующий турнир». Решил: отлично, буду болеть за Бразилию – выиграют в следующий раз. Но тогда родители сказали, что через два года болеть за Бразилию не получится. Было тяжело с этим смириться: «Почему все будут играть в футбол, а за Бразилию болеть не получится?»
Тогда я спросил, за кого мне болеть. Родители сказали: «За Италию». Наверное, дело в любви родителей к итальянской культуре и музыке.
От турнира в 2000-м у меня отчетливые воспоминания, которые уже ощущаются как взрослые. Разница между 9 и 11 годами на уровне футбола ощущается гораздо острее, чем на уровне игрушек, например. Не помню, во что играл в 9, а во что – в 11, но помню, как по-разному смотрел футбол.
Конечно, самое яркое воспоминание от Евро-2000 – полуфинал Италия – Голландия с удалением Дзамбротты на 34-й минуте. Италия, которая и так играла от обороны, остается вдесятером. Голландия пробивает два пенальти по ходу матча – один в штангу, второй Тольдо отбивает. А дальше он выигрывает серию пенальти, и Италия проходит в финал.
Этот матч – точно самое теплое футбольное воспоминание из детства. Я смотрел его один дома – ни родителей, ни брата. Помню, как прыгал по комнате, как переживал и складывал руки в молитвенном жесте во время каждого пенальти.

Дальше опять горькое разочарование – с выходами дель Пьеро один на один, которые он не реализовал в финале при счете 1:0, с этими четырьмя добавленными минутами – и на четвертой французы сравняли. Это было все очень горько и больно.
И, к сожалению, когда Италия выиграла чемпионат мира в 2006-м, это не ощущалось как долгожданное возмездие за перенесенную в 2000-м боль, потому что той остроты чувств у меня уже не было. Видимо, я повзрослел. 17 лет – интересовался школьными влюбленностями, читал серьезные книжки, слушал The Doors. В общем, в 2006-м я уже не мог так на разрыв переживать. А перформанс Тольдо на Евро-2000 настолько меня впечатлил, что после его перехода в «Интер» я несколько лет следил за каждым их матчем и болел за них. До сих пор близка эта команда.
– После ЧМ-1998 вы стали регулярно смотреть футбол?
– Нет. Родители сказали, что следующий турнир – через два года, так что я просто ждал и периодически спрашивал, когда он. Например, знаменитый финал ЛЧ между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» с фразой Маслаченко «Пижоны лежат, а великие торжествуют» я не смотрел.
А к лету 2000-го подготовился и сделал итальянский флажок: примотал кусочек бумаги к пластиковой трубочке и сначала нарисовал то ли венгерский, то ли ирландский флаг, но потом исправил. Кстати, думаю, все, кто увлекаются футболом, меня поймут: в какой-то момент у тебя исчезают проблемы на уроках географии, потому что различаешь флаги и страны, знаешь столицы. Через интерес к футболу это усваивается гораздо проще.
С 2000-го я начал смотреть футбол регулярно.

– Какие чувства вызывал просмотр футбола по телевизору? Это было что-то трепетное, или просто способ классно провести время?
– Лет в 12-14 это точно был способ классно провести время с отцом. Особенно матчи Лиги чемпионов – мы почти всегда смотрели их вместе. Для меня это был настоящий бондинг с ним, качественно проведенное время: вместе переживаете очень сильные эмоции.
Естественно, я перенимал многие предпочтения отца. Уже позже сформировал свои собственные, потому что папа ни за кого особо не болел. В чемпионате СССР – естественно, за «Арарат», но в Европе – даже затрудняюсь сказать, за кого. Он как будто в каждом матче определял, за кого мы сегодня болеем. По ситуации. Кстати, возможно, это мне помогло стать человеком, который процесс любит больше результата.
У меня растет дочь – сейчас ей год. Она еще слишком маленькая, чтобы смотреть футбол, – непонятно и неинтересно. Но в перспективе я бы очень хотел с детства привить ей болельщицкое ДНК и выбрать команду, с которой она могла бы себя ассоциировать. Пока не знаю как: предоставить выбор ей или предложить варианты? Я пока мало что понимаю в детской психологии, поэтому не знаю, сможет ли ребенок в 6-7 лет выбрать между «Реалом» и «Барселоной». Как она будет выбирать? Исходя из того, у кого форма красивее? Или, может быть, ей понравится футболист – и она за него зацепится? Как я в 98-м году – посмотрел на Зубастика и болел за Бразилию в том матче.
Когда я ходил на Суперкубок [Европы], на стадионе была масса отцов с дочерьми. Очень мило: отец и шестилетняя дочь, отец и десятилетняя дочь, отец и четырнадцатилетняя дочь. Помню, подумал: «Как классно. Тоже так хочу».

Мне бы хотелось, чтобы у ребенка сложилась такая штука, как, например, у Вадима Лукомского с «Арсеналом». Это потрясающий аналитик, который всегда стремится к точности, выверенности и строгому анализу, но после победы «Арсенала» над «Реалом» со счетом 3:0 говорит в студии: «Лучшая команда мира – «Арсенал», лучший игрок мира на данный момент – Деклан Райс». Только болельщицкая ДНК может такие абсурдные вещи в тебя запускать.
У меня такого нет. Настолько нет, что с годами я даже стал сопереживать «Манчестер Сити», который мы все, думаю, поначалу не любили как «денежный мешок». Но я легко преодолеваю такие штуки, если восхищает сам процесс, само искусство. Наверное, это тоже перешло от отца. Игра «Ман Сити» – это как раз искусство. Не могу болеть за них по-настоящему, но в некоторых матчах, особенно когда они еще не выиграли Лигу чемпионов, им сопереживал. Просто потому, что мне казалось чудовищной несправедливостью, что они несколько лет подряд играют лучше всех – а трофея все нет.
– Почему вам важно, чтобы дочь любила футбол?
– Вообще, конечно, Влада сама решит, что будет любить. Тем более она у нас девушка с характером. Умеет в предпочтения, умеет выбирать. Мы к ней прислушиваемся.
А вообще – хочется иметь с ней как можно больше общих интересов, чтобы потом дружить. Это распространяется не только на футбол.
Я бы очень хотел, чтобы она любила литературу, с удовольствием изучала Древнюю Грецию, греческие мифы, историю, читала Гомера. Это моя важная ценность. Я бы хотел, чтобы она любила языки и с интересом их изучала, получая удовольствие от процесса.
Это все мои интересы, и я хочу, чтобы она их разделяла. Поэтому буду предлагать – посмотрим, что из этого ей понравится.

Расскажу смешное – о бессмысленности воспитания. Когда я выступал в Лиссабоне, ко мне подошла девочка лет пятнадцати. Говорит: «Армен, спасибо за вашу работу, мне так нравится то, что вы делаете. Посмотрела ваш канал – и начала учить древнегреческий, уже читаю Гомера в оригинале». Отвечаю: «Это совершенно прекрасно. А вы здесь одна или с родителями?» Она сказала, что ее мама тоже тут, и я попросил с ней познакомить. Спрашиваю маму: «Скажите, пожалуйста, в чем секрет? Мне тоже надо так. Хочу, чтобы дочь пришла в 15 лет и сказала, что читает Гомера в подлиннике». Женщина ответила: «О, Армен, вы знаете, я ничего для этого не делала. И вообще хотела, чтобы она была технарем».
– Когда вы впервые попали на стадион?
– Довольно поздно. Мы жили в Москве, а смотрели в основном европейский футбол. Российские клубы интересовали, пожалуй, только в контексте Лиги чемпионов. Было желание сходить на матч, но так и не дошли. Поэтому впервые попал на стадион во Флоренции – «Фиорентина» играла с «Миланом».
На пальцах двух рук можно сосчитать, сколько раз я был на стадионе. Дело в том, что у меня для этого нет компании. Еще из-за частых переездов нет «своего» города и команды – я жил в Москве, Белграде, потом переехал в Варшаву. Жил бы в Ливерпуле или Лондоне, где каждую неделю топ-матчи, думаю, ходил бы регулярно.
В Варшаве есть атмосфера и своя футбольная культура. Думал: если «Ягеллония» или «Легия» дойдут до полуфинала Лиги конференций, схожу на матч. Но они вылетели в четвертьфинале (от будущих финалистов: «Ягеллонию» выбил «Бетис», а «Легию» – «Челси» – Спортс’’).
Зато в прошлом году в Варшаве был на матче за Суперкубок Европы между «Реалом» и «Аталантой» – прекрасные впечатления. Могу теперь всем рассказывать, что видел первый официальный гол Мбаппе за «Реал».

Еще одно достижение такого рода – вживую видел трио Месси-Суарес-Неймар, хоть и на довольно унылом кубковом матче с «Атлетико», в котором почти ничего не происходило. Месси забил единственный гол – с пенальти на 85-й. Но все равно было забавно и интересно увидеть, как Суарес бегает, а Месси ходит. Еще и на «Камп Ноу».

– Вы играли в футбол?
– В школьные годы – регулярно. В классе восьмом-девятом – каждый день после уроков. Это было классно. В десятом-одиннадцатом появились другие интересы – девочки, музыка, книжки и, может, компьютерные игры. Позже, в университете, собирались раз в неделю или в две.
Не знаю, как сейчас выглядят коробки, но в моем детстве футбольным полем называлось все, на чем играешь в футбол. Просто асфальтированная площадка, где роль штанг выполняли или деревья, или рюкзаки. Время года и погода никого не останавливали, поэтому люди периодически ломались. Помню, как мальчик Саша из моего класса однажды поскользнулся – и сломал ключицу. А я однажды сломал палец на ноге – 90-килограммовый товарищ прыгнул в отбор и приземлился прямо на мою ногу.
Я не был выдающимся игроком, поэтому у меня не было постоянной позиции. Так что играл там, где не хватало людей. Капитаны выбирали игроков, а дальше распределяли: самые мастеровитые, как сказали бы комментаторы моего детства, играют в нападении, а остальные – как придется.

– Что вам давали эти игры?
– Для меня любая игра – это азарт. В детстве мне было совсем тяжело справляться с эмоциями. Помню очень жаркие споры: был гол или не было. Объяснимо, когда у вас нет сетки, а штанга – это какой-нибудь рюкзак. Эти споры могли быть ожесточенными. Даже игры прекращались – команда просто отказывалась дальше играть, не принимая такую несправедливость.
В этом было очень много азарта, какой-то жизни, движения. А потом вы с друзьями идете в ларек, покупаете холодную кока-колу и отдыхаете. Отдых после такой интенсивной борьбы можно сравнить с привалом после восхождения на вершину.
– Очевидно, в вашей жизни был момент, когда футбол занимал больше места, чем литература.
– Да, да, конечно. Думаю, так было где-то до 2008 года.
С 2002-го по 2008-й я был заядлым футбольным болельщиком, смотрел почти все матчи Лиги чемпионов. Групповой этап – не всегда, но плей-офф – все или почти все. И пристально следил за чемпионатом Италии, болел за «Интер».
Потом был забавный период антимадридизма. Когда в «Реале» собрались галактикос, меня это очень разозлило и фраппировало. Испытывал какую-то непропорциональную нелюбовь. Еще, наверное, потому что мне все еще не нравился Зидан – из-за тех двух голов Бразилии в 98-м.

Более того, те два гола Бразилии сказались даже на выборе языка при поступлении в университет в 2005-м. У меня был выбор – французский или испанский. Выбрал испанский, потому что французский – сразу нет. Не простил Франции ни финала 1998-го, ни финала 2000-го, когда они обыграли мою любимую Италию в финале Евро.
Очевидно, сейчас я смотрю на это совсем иначе. Учу французский язык, совершенно влюблен во французскую культуру и литературу. Мне очень близка Франция. Считаю Зидана абсолютной иконой – во многих отношениях. Но тогда – да, у меня было совсем другое, подростковое восприятие.
Ну а потом, лет в 15, в мою жизнь пришла литература.
До 15 книжки, конечно, я тоже читал, но это были скорее подростковые книги. Даже не особо их помню. А потом вдруг прочел «Осиную фабрику» шотландского автора Йена Бэнкса, нашего современника, которого, к сожалению, несколько лет назад не стало. Прочитал «Коллекционера» Джона Фаулза и «Повелителя мух» Уильяма Голдинга.
Три мои первые большие книги. И все три – очень страшные.
«Коллекционер» Фаулза – о похищении девушки, заточении, плене, об отношениях насильника и жертвы.
«Повелитель мух» – вообще каноническая история, одна из главных книг XX века. Роман о том, как группа детей оказывается на необитаемом острове. Очень сильное философское рассуждение о том, как зло живет внутри каждого из нас. Голдинг прошел всю Вторую мировую войну, был офицером, участвовал в сражениях, видел кровь, ужас и грязь. Он видел friendly fire, когда люди, не зная, что на какой-то позиции находятся их союзники, обстреливали ее и убивали своих. Голдинг отдавал такие приказы и участвовал в разных операциях.
Что еще важнее, как он говорил: «Я видел вокруг себя огромное количество людей, которые все время гордились тем, что они не нацисты. «Мы, англичане, воюем с нацистами, а мы – не нацисты». А я смотрел на этих людей и видел, что каждый второй из них мог бы быть нацистом, если бы родился в другом месте и другое время. То, что они не нацисты, – не их заслуга, а сложившиеся вокруг них обстоятельства». Думаю, эти размышления о человеческой природе и о том, как легко человек оказывается подвержен злу, как легко он занимает сторону зла, как легко он становится нацистом по Голдингу, и толкнули его на написание «Повелителя мух».

«Осиная фабрика» – не такое фундаментальное для литературы XX века произведение, но культовое для поклонников Бэнкса.
Эти три книги я прочитал где-то к шестнадцати, и они изменили мой взгляд на жизнь, литературу и увлечения.
– Как эти книги попали в ваши руки? Почему именно они?
– У меня тогда был товарищ Тема, с которым мы любили философствовать. Наши разговоры о жизни сводились к темам судьбы, предназначения, будущего, девчонок и так далее. А старшая сестра Темы – очень начитанная девушка, училась в Литературном институте – работала в книжном магазине и периодически давала ему почитать книжки. Одной из них Тема впечатлился – и предложил мне. Дальше мы устроили мини-книжный клуб. Через сестру Темы такие книги и начали попадать ко мне в руки.
Может, если бы в школе я вдумчиво читал, допустим, «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, на меня бы это произвело не меньшее впечатление, потому что это столь же важная и страшная книга, как «Повелитель мух» или «Коллекционер». Но тут типичная подростковая история: когда есть авторитет, которого нужно слушаться, – родители или учитель, – ты не слушаешься. А когда книжку читает клевая старшая сестра твоего друга, это сразу пахнет чем-то интересным.
Футбольные отсылки в видео о литературе – зачем?

– Футбольные отсылки в видео. У меня ощущение, что большая часть вашей аудитории скорее не понимает, что они означают.
– Это правда. Тем не менее отсылка может работать даже тогда, когда ты не понимаешь, что она означает, но чувствуешь ее и проваливаешься в некую «яму смысла», которая находится под этим слоем. Даже если не понимаешь, что именно это значит, возникает ощущение полноты, рельефности и глубины.
Отсылки оказываются в видео просто потому, что мне это близко. Мои ролики – отражение взглядов на жизнь, историю и литературу, а также предпочтений. Футбол – неотъемлемая часть моего взгляда.
– Как вы отличаете хорошую отсылку от плохой?
– Владимир Набоков говорил: «Все, что у меня есть, – это мой стиль». В целом, я готов это повторить. Кажется, сформировался присущий мне стиль работы с языком, и за счет наработанной базы и огромного количества часов такой работы я интуитивно ощущаю, что лучше оставить, а что – убрать.
Вместе с тем, возвращаясь к старым работам, иногда думаю: «Вот это было неудачно, а вот это стоило бы изменить». Все мы находимся в динамике и постоянно меняемся. Как говорил [французский писатель и философ эпохи Возрождения] Мишель Монтень, «возможно, завтра я узнаю что-нибудь новое, что произведет во мне перемену». Я все время узнаю что-то новое и так или иначе меняюсь.
Так что ответ: я слушаю интуицию. Она чаще всего не подводит, а, когда подводит, – ничего страшного.
– Бывало, что благодаря вашей отсылке кто-то заинтересовался футболом? Условно, услышал в видео про доминирование «Арсенала» Артеты – и пошел узнавать, кто такой Микель Артета.
– Такие отсылки, кстати, работают на нескольких уровнях – этим они мне и нравятся. Для тех, кто не разбирается в футболе или просто что-то слышал, очевидно: «Арсенал», наверное, сильный футбольный клуб. Если заинтересуются результатами, увидят второе место в чемпионате, и решат: они, наверное, и правда доминируют. А для тех, кто разбирается, здесь еще появляются иронические кавычки, потому что Артета часто говорил о доминировании в матчах, где «Арсенал» получал очень неудачные результаты.
Это как раз кажется мне хорошей отсылкой. Если бы я сказал «доминирует как «Манчестер Сити», было бы менее удачно.
Знаю, что есть люди, которые тщательно разбирают все наши отсылки, и даже делают таблички в экселе с анализом того, какая фраза что означала, потому что вот эта постмодернистская игра – одна из главных стилистических особенностей моих выпусков. Но мне пока неизвестны случаи, когда бы человек не просто узнал, кто такой Микель Артета и как именно он доминирует, а еще и увлекся футболом. Впрочем, это не значит, что их нет.
– Бывала негативная реакция на отсылки?
– Бывала, конечно. Все-таки ютуб большой, алгоритмы работают так, что к тебе всяких людей заносит. Часто говорят: «Слишком непонятно, все в кучу. Нужно рассказывать просто, зачем это?» А есть и с другой стороны критика: «Это слишком изысканно – искусство маньеризма». Хотя мне совершенно не кажется, что занимаюсь маньеризмом. Если уж что-то выбирать, это постмодернизм, заряженный определенными ценностями.
И мне точно не приходилось сталкиваться с негативом из-за футбольных отсылок. Мне кажется, они нашу аудиторию скорее умиляют, потому что большинство действительно их не понимает, но настолько привыкло, что воспринимает так: «Ой, очередная футбольная отсылка от Армена, как мило – ничего не понятно, но очень интересно».
«Месси – последний великий «пассажир», а Неймар – анти-Надаль». Футбол – не про войну и не про жестокость, а про драму человеческих чувств

– На меня ваши видео всегда производят ощущение созидательного тепла, а футбол очень часто пробуждает в людях негатив и жестокость. Что вы чувствуете по этому поводу?
– Возможно, здесь мы сталкиваемся с сублимацией.
На самом деле не футбол пробуждает в людях жестокость. Он просто становится пространством, в рамках которого можно выразить свою жестокость. Не думаю, что в природе футбола есть что-то жестокое. В нем есть соревновательное и элементы борьбы, как и в любом другом виде спорта, а чего-то специфически жестокого нет. Просто сложилась некоторая традиция [проявления жестокости на футболе]. Если тридцать лет назад словосочетание «английские болельщики» наводило ужас на всю Европу, и мы представляли каких-то головорезов с холодным оружием, то сейчас поход на английский стадион – это один сплошной театр мечты: искренние эмоции, сопереживание. Да, на стадионах по-прежнему выплескивают много эмоций, но они созидательные. Теперь люди ходят на футбол семьями. Так что эту культуру боления за несколько десятилетий удалось пересоздать – теперь она не жестокая.
Мне кажется, проблема не в футболе, а в людях, которые привносят в него жестокость. Наверное, они это делают, потому что она есть в их жизнях.
– Футбол – это война?
– Если футбол – это война, пусть лучше всякая война будет такой.
Когда люди называют футбол войной, то используют определенную метафору. Жить в пространстве этой метафоры довольно комфортно и безопасно, поскольку речь идет о некоем эмоциональном переживании.
Настоящая война выглядит совсем иначе и сильно отличается даже от самого непримиримого соперничества. Самое страшное, что мы помним в матчах между «Реалом» и «Барселоной», – это свиная голова, которую бросили Фигу под ноги. Все-таки это не идет ни в какое сравнение с настоящей войной.

– Вы отделяете спортсмена от его личности?
– У меня здесь есть некоторая профдеформация: на мой взгляд, ты не можешь профессионально заниматься литературой и быть добросовестным исследователем, если не умеешь отделять автора от его текстов. Если мы будем читать тексты через призму автора, то сильно ограничим сами себя: любой текст куда больше, чем его автор. По словам Умберто Эко, написав книгу, автору стоило бы умереть, чтобы не становиться на пути текста. Когда авторы уже сделали нам это одолжение и умерли, было бы очень глупо своими руками ставить их на пути текста. Нет. Текст отдельно, автор отдельно.
Соответственно, умение отделять человека от того, что он делает, присуще мне по долгу профессиональной деятельности. Конечно, это правило легко применить к писателю XVIII или XIX века. Когда мы говорим о футболистах, то речь о современниках, и тут все иначе. Конечно, когда знаешь, что человек вовлечен в поддержку каких-то движений, которые тебе глубоко не симпатичны, или обвиняется в насилии, это точно сказывается на восприятии. Но, как мне представляется, это не характеризует его как футболиста. Характеристика человека – то, как он ведет себя, а характеристика футболиста – то, что он умеет на поле. Получается симбиоз.
При этом признаю: я не припомню ситуации, когда по-настоящему мог наслаждаться тем, что человек показывает на футбольном поле, если он глубоко мне несимпатичен. Эту сильную эмоциональную связь тяжело разорвать.
– Кто вам глубоко несимпатичен?
– Я уже говорил, что мой нравственный и спортивный ориентир – это Рафаэль Надаль. Мне кажется, его полная противоположность – футболисты, которые называют себя самыми сильными, талантливыми и прекрасными, обещают всех обязательно обыграть, но этого не делают, а еще не самым усердным образом тренируются. Довольно ленивые футболисты, в которых много эгоцентризма и гонора.
Прежде всего в голову приходит Неймар. Не могу сказать, что он прямо-таки глубоко несимпатичен, но для меня он – анти-Надаль. Человек великого таланта, который добился бы в разы большего, если бы добавил к этому таланту работоспособность, упорство и труд. Его карьера – самое красноречивое выражение того, что происходит с талантом, если к нему не добавить вот этой надалевской собранности, цельности, упорства и скромности.

– То есть для вас менее талантливый трудяга всегда будет стоять выше волшебника, который чуть-чуть раздолбай?
– Безусловно. В великом споре XXI века – «Надаль или Федерер?» – я всегда был на стороне Надаля. Человека, как особенно поначалу казалось, менее талантливого, особенно на фоне Федерера, который выглядел именно как летающий по корту волшебник, творящий магию.
Вместе с тем мне не кажется, что тут обязательно должно быть противоречие. Если посмотреть на лучшие команды мира, то там волшебники трудятся как чернорабочие. Сегодня в футболе невозможно добиваться успеха только трудягами или только волшебниками. Только волшебники – то, что пытался создать Анчелотти в «Реале». Но сегодня, если у тебя в команде два пассажира, и ни один из них – не Лионель Месси, на дистанции ты всегда проиграешь команде, которая заставляет волшебников работать. Как, например, Де Брюйне в лучшие годы в «Манчестер Сити».
Мне вообще кажется, что Месси – последний великий «пассажир». Величайший футболист в истории, который никогда не возвращался в оборону.

Модели, которые построили Гвардиола и Клопп в «Ман Сити» и «Ливерпуле», очень ценны для меня как раз тем, как они совмещали трудолюбие и магию.
– Чему футбол нас может научить?
– Я вообще довольно скептически отношусь к способности человека чему-то научиться.
У Курта Воннегута в «Колыбели для кошки» есть такой философ Боконон. Герой описывает, как он прочитал, по-моему, 14-й том сочинений Боконона, который назывался: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?» Его было очень легко и быстро прочитать, потому что весь том состоял из одного слова и точки: «Нет».
Мне кажется, у нас было уже довольно много примеров, чтобы чему-то научиться. Чем глубже погружаешься в историю цивилизации и изучаешь, через какие катаклизмы она прошла за тысячу лет… Сколько эпидемий чумы, бессмысленных междоусобных войн. И чему человечество в итоге научилось? Я здесь, скорее, скептик. Не уверен, что человечество показывает, что оно хороший ученик.
Пока вижу, что large language models (большая языковая модель – программа, которая умеет понимать и генерировать текст на языке, но не «думает» и не «знает» в привычном смысле, а просто очень хорошо предсказывает, какие слова будут уместны в ответ на вопрос – Спортс’’) или искусственный интеллект учатся гораздо быстрее. Карел Чапек в «Войне с саламандрами» тоже показал, что эти маленькие прекрасные чудовища учатся гораздо быстрее человека.
Не думаю, что футбол нас чему-то может научить, раз весь предыдущий опыт не смог. Я думаю, он может подарить нам очень сильные эмоциональные переживания. В нем мы часто можем видеть чистую драму человеческих чувств, с которой нам может быть целительно себя ассоциировать.
«Качественный футбол – великая работа ума». Почему граница между футболом и искусством – надуманная

– Есть стереотип: если читаешь книги, вряд ли любишь футбол, а, если любишь футбол, вряд ли читаешь книги.
– Такой стереотип действительно есть, и я бы даже предположил, что есть корреляция. Я бы мог, конечно, и тут привести пример Вадима Лукомского – он-то много читает, но в основном – литературу, связанную либо с футболом, либо с критическим мышлением, а не художественную. Так что действительно мир художественной литературы как будто отделен от мира футбола, между ними пролегает граница.
Мне кажется, наш разговор – один из способов размывать эту искусственно созданную границу, потому что такой взаимосвязи совершенно не должно быть. Вообще не вижу, как эти общности друг другу противоречат, особенно если мы говорим о большом футболе как о культурном явлении или явлении искусства. Когда это не просто игра «кто заковыряет единственный гол на 88-й минуте», а когда мы говорим о битве идей, когда команды имеют продуманный план, и ты видишь, как он реализуется, как тренеры обмениваются заменами, словно шахматными фигурами в партии, и пытаются друг друга переиграть.
Качественный футбол – великая работа ума, за которой даже более увлекательно следить, чем за сюжетом средней книги. Мне кажется, великих книг вообще не так много – примерно столько же, сколько великих футбольных матчей.
– Серьезно? Все-таки футбол существует около 150 лет, а книги пишут намного дольше.
– Это правда, но большая часть написанных книг не переживает свое время и не входит в категорию великих. Сегодня вы вряд ли станете пересматривать матч Серии А из 1986-го. По этому же принципу многие книги XIX века сегодня читать, конечно, можно и можно даже находить в них что-то любопытное, особенно если ты интересуешься каким-то периодом, но в когорту великих они не входят.
– Что делает книгу великой?
– Это сложный вопрос.
Для меня величие определяется, прежде всего, влиянием. Тем, насколько та или иная книга оказывается влиятельной в пространстве других. Как сформулировала это литература постмодерна и, в частности, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес: вся литература представляет собой огромный единый текст, и внутри этого текста существуют некие выдающиеся произведения, которые всплывают чаще других. Они сильнее остальных повлияли на литературный процесс. Например, «Декамерон» Боккаччо – книга, написанная почти 700 лет назад.

Это одна из самых влиятельных книг и в истории своего поколения, и в истории последующих поколений. Безусловно, великая книга по оставленному следу.
Так что, пожалуй, для ответа на этот вопрос ты замеряешь след. Еще один способ: представить, что ее нет, и по объему той пустоты, что останется, оценить, насколько она была важна. Скажем, Шекспир – такой писатель. Если вытащить его из английской литературы, то все, что после Шекспира, начинает разваливаться и рассыпаться, потому что очень и очень многое в литературных процессах английской литературы опирается на Шекспира.

– Как заразить футболом человека, который ничего о нем не знает? И есть ли в этом смысл?
– В Испании была социальная реклама Si te lo explican con fútbol, lo entiendes – «Если ты объяснишь это ему через футбол, он тебя поймет».
Там была сценка, где девушка объясняет парню, как вести себя с родителями, потому что не хочет, чтобы они спрашивали про свадьбу. И говорит: «Если ты владеешь мячом, тебе не забьют, поэтому, если ты все время говоришь, предлагаешь какие-то темы, рассказываешь истории, то теща не сможет спросить про свадьбу».
Мне кажется, чтобы заинтересовать футболом незаинтересованного, нужно делать обратное: объяснять человеку игру через образы, которые близки ему. Например, если перед вами увлеченный литературой человек, можно находить аналогии и параллели, которые помогут показать: вот это противостояние команд – такой-то архетипический сюжет, в котором раскрывается часто встречающийся в литературе образ. Только здесь это все происходит еще и в прямом эфире, и это живые люди, которые являются соучастниками процесса.
Можно попробовать так.
– Вы так делали?
– Скорее, нет. Я вообще не большой пропагандист: тихонько себе чем-то занимаюсь, а те, кому это нравится, присоединяются. А я сижу, как говорил кот Бегемот, никого не трогаю и починяю примус.
– Вы делали выпуски про лучшие начальные и заключительные строчки в истории мировой литературы. Какое место вы считаете самым сильным в художественном произведении?
– Мне кажется, ответить на этот вопрос невозможно. Это как спросить, какое место самое сильное в матче: каждый матч развивается по собственному сценарию, и в каждом матче будет своя точка кульминации. Так и в художественном произведении.
Это зависит и от конкретного произведения, и от эпохи, поскольку в разные эпохи литература работала по-разному. Бывало, точка кульминации вообще отсутствовала – например, Средневековье в ней не нуждалось. Произведения той эпохи – это огромный xG без голов: все время накапливается напряжение, но разрешения этого напряжения нет. В голову приходит роман «Дон Кихот» Сервантеса. Когда Владимир Набоков анализировал эту книжку, то представлял ее как теннисный матч. Для поединков Дон Кихота он вел теннисный счет – 1:0, 1:1 и так далее. Если посмотреть на этот разбор, можно увидеть, что в ключевых точках Дон Кихот как будто берет или уступает сет, а заканчивается все тем, что он уходит на тай-брейк.

Очень индивидуальная история. В литературе ведь еще нет чего-то такого, как забитый гол. Очевидно, гол – это всегда яркое событие. Наверное, для жанра детектива мы могли бы назвать голом убийство, потому что детектив без убийства – это как ничья 0:0. Возможно, это и интересная концепция, но, как правило, такие детективы не пишутся.
Обычно в литературе нет явного «гола». Одна из задач при чтении – как раз-таки обнаружить точку, в которой сцепляются важные смыслы.
Почему нет классных книг с футболом в сюжете, какой матч должны увидеть инопланетяне и что должны прочитать все
– Что для вас главное в футболе?
– Так как я все-таки литературовед, а не «футболовед», скажу вещь, которую никогда бы не сказал применительно к литературе: лихо закрученный сюжет и яркие эмоции.
Здесь я абсолютно среднестатистический зритель. В пространстве литературы я бы, конечно, не называл сюжет главным. Я бы сказал, что гораздо больше внимания обращаю на форму: стартовый план писателя, его подготовку, замены, количество обостряющих передач в финальной трети.
Но, так как футболом я не занимаюсь профессионально, назову именно его сюжет.
– По-настоящему сильной книги о футболе не существует. Это невозможно?
– Это правда – нет ни одной великой книги, в которой футбол бы играл заметную роль. Причем интересно: теннис как будто гораздо чаще встречается в искусстве. Здесь сразу вспоминается фильм Вуди Аллена «Матч-пойнт» – очень глубокое и крутое произведение искусства, которое совсем не про теннис, но в котором теннис играет важную роль. И в романах Набокова очень часто фигурирует теннис – в «Лолите», в «Приглашении на казнь» в меньшей степени, но тем не менее.
А вот футбол как будто пока такого еще не обрел.
– Юрий Дудь (признан иноагентом на территории РФ) спросил у вас про десятку книг для инопланетян. Есть один матч, который вы бы показали инопланетянам, чтобы объяснить, что такое футбол?
– Мы все так устроены, что нам ближе и понятнее читать про кого-то, кто похож на нас. Людям интересны люди. Человеку нужен человек – вывод, к которому Тарковский приходит в «Солярисе» в отличие от романа Лема. И до тех пор, пока человеку нужен человек, если мы это принимаем, можно предположить, что инопланетянам нужен инопланетянин. Чтобы по-настоящему сочувствовать происходящему, инопланетяне должны увидеть кого-то своего на поле.
Поэтому нам в любом случае нужно брать матч с участием Месси.

И мне кажется, что это финал чемпионата мира в Катаре. Может быть, не самое качественное футбольное зрелище. Условно, если бы мы хотели показать лучший тайм в истории футбола, можно было бы выбрать матч, который «Ман Сити» выиграл у «Реала» со счетом 4:0 несколько лет назад. Если бы хотели показать какую-то невероятную драму, то в Лиге чемпионов была масса таких матчей: например, «Ман Юнайтед» против «Реала», когда еще Бекхэм играл.
Но мне кажется, финал чемпионата мира в Катаре подошел бы на роль визитной карточки футбола. Еще и с инопланетянином на поле. Еще и с тем, что он в итоге побеждает.

Думаю, все это может склонить инопланетян на нашу сторону.
– Вас часто просят посоветовать книги?
– Ага, случается.
– Как вы к этому относитесь – бесит или приятно?
– Скорее, бесит. Давайте так: не то чтобы бесит, но я не большой охотник до этого дела. Мне кажется, тем, кто читает много модной современной литературы, гораздо легче советовать книги. А я практически не успеваю читать современное и концентрируюсь на более древней литературе. Меня спрашивают: «Что ты сейчас читаешь?» И что, я скажу: «Лодевико Кастельветро, «Поэтика» Аристотеля, изложенная на народном языке и истолкованная»? В этом переводе XVI века он высказывает много оригинальных собственных мыслей и много где исправляет Аристотеля. Очень свежие идеи для XVI века, и Кастельветро – один из первых, кто их озвучивает. Но человеку все это будет интересно, только если он погружен в контекст, о котором я говорю, в контекст эпохи Возрождения, перемен в литературе тех времен и «Поэтики» Аристотеля.
Так что мои советы – примерно то же самое, что и советы Вадима Лукомского смотреть вторую Бундеслигу. Есть, конечно, охотники до этого дела, и я понимаю, что на стадионах клубов второй Бундеслиги гораздо больше людей, чем тех, кто читает Кастельветро в XXI веке, но все равно: если я скажу «Почитайте Кастельветро» – это примерно как «Посмотрите вторую Бундеслигу».

– Я хотела попросить вас посоветовать одну книгу футболисту, которая перевернула бы его представление о чтении, но теперь, возможно, передумала.
– Хаха, ну почему?
Если я должен посоветовать какую-то одну книгу, то всем – не только футболистам – посоветовал бы роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух», который уже упоминал.
Это книга о том, как функционирует зло, как оно живет внутри каждого из нас, как оно высвобождается, как можно с ним бороться и как с ним жить.
Телеграм-канал Любы Курчавовой
Телеграм-канал Армена Захаряна
Как окружить жизнь книгами, когда ты футболист – Башкиров дает рекомендации для всех

Фото: Gettyimages/Julian Finney / Staff, Firo Foto, Pedro Vilela / Stringer, David Ramos / Staff, Scott Barbour / Staff, Naomi Baker / Staff, Ryan Pierse / Staff, Alex Pantling / Staff, David Ramos / Staff, Stu Forster / Staff, Alex Caparros / Stringer, Phil Cole / Staff, Clive Brunskill / Staff, Henri Szwarc / Stringer, ; Norbert Schmidt/R3665_Norbert_Schmidt, IMAGO/Mikolaj Barbanell/Global Look Press; instagram.com/zajaryan ; en.wikipedia.org









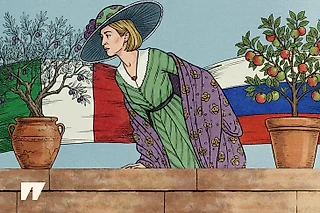

О качестве беседы можно не говорить, все кто видел хоть один ролик Армена понимают - это мысли, которых у тебя либо не было, либо ты не мог их сформировать, либо ты формировал их не так элегантно как Армен
Спасибо
Только прустовский цикл не осилил)