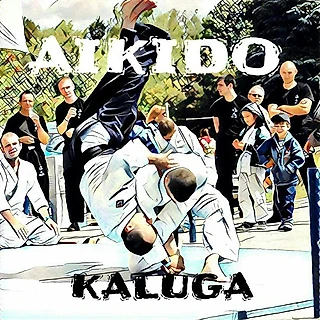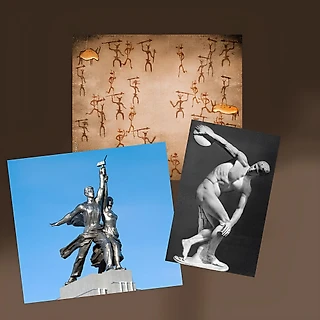О парашютах, вулканах, медведях и хаски
Обо всем этом мы поговорили с гидом-экскурсоводом по Северным Курилам Еленой Котенко.
− Очень хорошо помню вашу экскурсию в Северо-Курильском краеведческом музее, на которой мы с дочерью были два года назад. Когда я вас увидела, первой мыслью было, что вы занимались или занимаетесь спортом: у вас спортивная подтянутая фигура и соответствующий рост. Подумалось, что это баскетбол или волейбол. Но я ошиблась − позже я узнала, что это был совсем другой вид спорта.
− Много хожу в горы, поэтому нижняя часть прокачанная.

− У меня вопрос по виду спорта, которым вы занимались в старших классах и на первом курсе университета. На минуту представила себе: ко мне подходит одна из моих дочерей и говорит, что будет заниматься этим видом спорта. Я бы, наверное, поседела. Не представляю, как ваша мама на это согласилась?
− На парашютку? У меня отец был инструктором, но он погиб. Когда в школу пришел Лев Андреевич Желонкин и предложил в парашютный клуб прийти, выяснилось, что мама его знает, потому что это был друг отца, они вместе работали инструкторами по прыжкам. Сначала мама не разрешила мне заниматься. Но я пришла на пробное первое занятие, на собрание. Подошла к Льву Андреевичу, сказала, кто я, и он ответил, что с моей мамой поговорит. Он поговорил, и меня отпустили туда.
− А вы на тот момент знали о том, что отец у вас был инструктором? Возможно, мысли были, что это наследственное?
− Да, знала. Даже не помню, почему я заинтересовалась. Мне просто стало интересно, и я пошла туда. Но это дало толчок для моей будущей жизни, потому что каждые выходные при любой погоде мы ездили в Николаевку − это поселок, там поля были, где мы прыгали. Потом парашютка закрылась, но я-то привыкла, что все выходные я где-то на свежем воздухе. И я вот так попала в туризм, пошла в турклуб.
− Скажите, первый прыжок свой вы помните?
− Если честно, уже смутно.
− А какие ощущения при прыжках? Я вообще далекий от этой темы человек, я не представляю, что это такое: с высоты прыгнуть вниз…
− Прикол в том, что я пошла туда − мне там было сколько? Пятнадцать-шестнадцать лет, и тогда вы не воспринимаете какую-то опасность или еще что-то. Как говорят многие парашютисты, это не самый травмоопасный вид, если брать какую-то общую статистику по видам спорта.
На самом деле − это же спорт, то есть у вас должна быть дисциплина, вы должны какие-то быстрые решения принимать в воздухе и т.д. В любом случае это остается спортом, как ни крути. И туризм тот же − это не просто прогулки. Когда я, например, уже начала кого-то водить, понимала, что весь груз ответственности на мне. И только я принимаю решения. И если группа не согласна с моим решением, мне надо сделать так, чтобы они приняли мое решение, потому что я за них в ответе. Это на самом деле очень сильно дисциплинирует.
− Вы сказали, что это не самый травмоопасный спорт, а с чем там могут быть связаны травмы? Прыжки с парашютом впервые я увидела в детстве, на только что открытом стадионе было празднование 750-летия города, из которого я родом. В рамках праздничной программы были прыжки парашютистов. Я помню, что несколько человек приземлились, но упали, а один приземлился на две ноги и потом бежал практически через весь стадион под аплодисменты и радостные крики − все довольные, счастливые были.
Травмоопасность – это то, что могут быть неудачные падения в момент приземления? Или в воздухе тоже могут быть какие-то травмы? Про то, что не раскрылся парашют, я даже боюсь гуглить, читать − я не знаю, что в этом случае бывает.
− В любом случае вы прыгаете с запасным парашютом. Если не открывается основной парашют, вы открываете запасной. Притом сейчас, если брать уже современные парашюты, приборы − вы можете посмотреть. Вот я прыгала с Д-1-5у. Это такой круглый парашют, сзади − ранец с основным куполом, а спереди на животе − запаска. На запаске стоит прибор, на определенной высоте этот прибор срабатывает, если что-то идет не так.
Если брать современные прыжки, сейчас тенденция такая, что вас учат этому. Вы приезжаете, например, в какой-то аэроклуб. И у вас первый прыжок идет в тандеме: вас цепляют к тандем-мастеру и вы с ним прыгаете. В целом он все делает за вас. Единственное, просит делать какие-то движения, чтобы понимать, в адеквате человек или он просто как мешок картошки висит и ничего не понимает, что происходит.
Дальше вы уже самостоятельно прыгаете, но с двумя людьми. Они по бокам вас держат в свободном падении и потом так далее идет. В общем, мы далеко ушли на самом деле.
Про травмоопасность: можно запнуться, ногу подвернуть, когда садитесь. Но на земле есть так называемая предпрыжковая подготовка, где вы все отрабатываете − приземление, ножки вместе, согнутые, несогнутые и т.д. Например, когда я прыгала, нам не разрешали в кроссовках прыгать, только в ботинках, которые голеностоп держат, чтобы уменьшить травмы. Каски мы надевали. И мы еще прыгали на землю − на поле, где земля. Мне казалось, что не очень сильные удары. А зимой так вообще просто в снег по пояс вы ушли и потом выкарабкиваетесь из этого снега.
Сколько я была в парашютке, у нас случаев мало было. Женщина сломала ногу, но она уже прыгала как спортсмен, она с крылом прыгала. Мы с круглым парашютом, а она уже с крылом. И девочка руку сломала − и все, больше ничего такого я не помню.
− Это действительно так? При хорошей подготовке многое отрабатывается на земле?
− Все отрабатывается. Отрабатываются какие-то вводные – например, если у вас стропы запутались, перехлест парашюта стропой произошел, если приводнение или на линии электропередачи вас несет. Это все отрабатывается на земле до автоматизма.
− А почему вы перестали заниматься спортом? С финансовой стороной было связано?
− Я еще попала на бесплатное обучение, остатки ДОСААФа советского были. Потом там начались проблемы, и я ушла в планерный спорт. На планерах летала − на самолетах, которые без двигателя. Потом действительно осталась только коммерческая школа парашютная. У меня не было денег.
Я ушла в туризм, думала, что там будет дешевле, но это оказалось не так, потому что покупка снаряжения − такая нормальная тоже.
− А про туризм можно подробнее?
− На первом курсе меня позвали (уже не помню, кто) с ночевкой в поход под Вилючинский вулкан. Естественно, у меня никакого снаряжения не было. У меня была куртка, какой-то спальник, в котором даже в плюс двадцать замерзнешь, и какие-то сапоги зимние прорезиненные. И мы там на лыжах пошли, а я на лыжах со школы вообще не стояла, и то я прогуливала физкультуру как могла. Если бы мне в школе сказали, что я потом начну на лыжах кататься беговых, я бы, конечно, посмеялась.
Ночевка была настолько холодная, что я офигела. Но мне понравилось. В этот клуб ходить я не смогла, это был елизовский клуб (я родилась в Елизово), потому что большую часть времени я проводила в Петропавловске − у меня обучение было в университете.
В университет пришли представители спасотряда, предложили записаться на двухгодичные курсы и стать спасательным волонтером. Они пропустили рассказ про первый год обучения (теоретический), а сразу начали рассказывать, как классно они там и пещеры строят снежные, и узлы вяжут, и все такое.
Начался первый год. Нас пришло, наверное, человек шестьдесят. И получилось так, что первый год – это теория, т.е. мы там огнетушители изучали, всякие нормативные акты. Очень скучно было, но я продержалась этот год. По итогу осталось десять человек после этих курсов, потому что, естественно, всем эта теория не нравилась. Представляете, после учебы вы еще идете на три часа и слушаете строение огнетушителей и какие они бывают. По мне это была скука смертная.
А на второй год, как и обещали, начались практические занятия: мы и веревки вязали, и переправы натягивали, и спасали «утопающих» на льду: нас одевали в спаскостюмы и мы по льдинам ползали, друг друга «спасали». И пещеру копали, ночевали в ней. Интересно было. В спасработах, таких, как бабушек поискать в лесу, участвовали. И потом, когда я получила эту корочку «спасатель», у меня уже была хорошая база.
И я пошла в турклуб Глеба Травина на обучение «гид-проводник». Мне как таковая корочка не особо нужна была, но летом я еще ходила в походы, меня звали и мы периодически куда-то ходили − в Налычевский природный парк с палатками, с рюкзаками.
И в 2009 году я пошла на этот семинар. Нас тоже было не очень много человек. Если сейчас вы пойдете в турклуб Глеба Травина, там просто двести человек на обучении. И естественно, инструкторов мало. Уже не та атмосфера. Там уже на поток работают. Мы когда приходили, это была большая туристическая семья. Мы обучались, тоже сначала была теория, но она была поинтереснее там, а зимой, в январе, начались выходы на лыжах: под рюкзаком сначала просто учились ходить, потом с ночевкой ходили, итогом всего этого был недельный категорийный поход, «единичка». Мы пошли на Тимоновские горячие источники, условно туда два-два с половиной дня идти, там день и два-три дня обратно.
А потом я ушла работать в техникум, но мы, кто закончил в этом году турклуб, продолжили вместе ходить. Потом я начала студентов своих водить и подрабатывать летом гидом по Камчатке. Каждые выходные я старалась куда-то с кем-то попасть.
− А это уже было в рамках полевой школы-экспедиции − эти походы со студентами?
− Нет, это еще я сама. Студентов я водила по легким маршрутам и которые не были затратными в плане доставки, куда мы могли на автобусе доехать, потом пойти.
А потом я уже попала участником в полевую школу-экспедицию. Там увидели, что я умею ориентироваться, по картам ходить, маршруты составлять, и меня пригласили туда работать на волонтерских началах − именно составлять маршруты для этих полевых школ.
− А где этот навык составления маршрутов был получен, в клубе Глеба Травина?
− Да, в турклубах. Это не то чтобы обучение, просто… Например, мы на Командорах были − все были в первый раз, и нам надо было из точки А в точку Б пройти. Я разговаривала с местными, кто там ходит, смотрела по карте: там по речке, тут по речке и выходишь. Ничего там страшного такого нет.
− На самом деле это не всем дано. Поэтому меня это удивляет.
− Я хорошо в пространстве ориентируюсь, по каким-то объектам хорошо ориентируюсь. Если у вас есть карта и на карте обозначена гора, которая должна быть справа, ясно, что ее надо искать и по ней ориентироваться, чтобы она у вас была по правую руку. Или ручей у вас должен течь по левую руку, условно, и вы идете вдоль ручья, он слева у вас, если надо − перешли, значит, он справа, идете дальше.
− У вас горы, у вас, наверное, легче.
− Да, у нас привязка к местности хорошая. Даже по Камчатке идете и вы знаете, у вас вулканы должны быть справа, потом они по прямой у вас должны быть, но все равно чуть-чуть правее от вас, т.е. вы к ним привязаны и все окей.
Сейчас тут все легко, у вас куча приложений в телефоне.
− Куча приложений в телефоне… Допустим, если в пределах города, то, наверное, хорошо связь берет. А если далеко?
− Карты офлайн, просто по GPS идете и все. GPS-трекер в телефон сейчас включен, даже если связи нет, он хорошо показывает.
− Скажите, а что привело вас на остров Парамушир? Вы на Командоры ездили, а потом почему-то переключились на Северные Курилы?
− Да, не получилось в 2016 году попасть на Командоры и решили ехать с полевой школой-экспедицией на Парамушир. Подумали, что остров Беринга – это остров, Парамушир – остров. Поменяли просто один остров на другой, потому что в любом случае надо было отрабатывать эту полевую школу-экспедицию, все эти школы были завязаны на гранты. Мы купили билеты на теплоход «Гипанис» и поехали туда.
− И со временем получилось так, что вы стали там жить?
− Да.

− Не так давно, 30 июля, в Северо-Курильске было цунами. В это время вы были с туристами?
− Нет. Как раз получилось так, что мы группу отправили 29 июля, а следующая группа еще не прилетела, у нас было два выходных. Мы собирались завтракать с командой, и как раз произошло землетрясение. Мы выбежали из дома. Марк (Марк Котенко − супруг Елены, авт.) сразу позвонил капитану и сказал ему выходить в Охотское море.
Парадокс такой, что у нас единственное судно, которое вышло из порта, несмотря на то, что все местные: судовладельцы, капитаны. Почему-то никто этого не сделал, кроме нас, и всех повыбрасывало. На самом деле, все в целом хорошо закончилось, только одно судно утонуло, остальные незначительные повреждения получили и очень быстро встали в строй обратно.
− Скажите, а предупреждение о цунами через какое время появилось? Было время сориентироваться?
− Я не могу сказать. Как только закончилось землетрясение, Марк сразу отправил «Ларгу», судно наше, с капитаном. А тревога сама была чуть позже объявлена. По факту, если бы мы ждали объявления тревоги цунами, «Ларга» бы не успела уйти.
− Землетрясение было настолько сильным, что угроза цунами была очевидна? Поэтому пришлось очень быстро ориентироваться и принять решение?
− Оно было такое сильное, что там было без вариантов.
− Все-таки землетрясения у вас происходят достаточно часто. Если бы вы оказались с туристами, то как-то иначе действовали бы?
− Нет, мы бы так же все собрались с туристами на сопке, там бы сидели. Кстати, когда был сильный афтершок (повторный сейсмический толчок, авт.), у нас как раз туристы садились в вертолет на Камчатке и прилетели к нам. У нас объявили волну цунами, и мы приветственный обед устроили у себя на сопке около домиков. Обычно мы уху варим на моле, когда группа прилетает. Но они с пониманием отнеслись.
− Люди, которые отправляются в такие туры, готовы, что может пойти что-то не по программе?
− Мне кажется, мало кто задумывается о таком. Мы здесь постоянно ощущаем землетрясения, еще что-то и мы более готовы ко всему этому. А люди приезжают, и для них это как приключение. Они не совсем осознают, какие последствия могут быть. Они нетревожные, скажем так.
− В последнее время в информационном поле появляются истории, где туристы попадают в какие-то непонятные ситуации: на связь не выходят, где-то блуждают, потом появляются − оказывается, все нормально. Вы занимаетесь туризмом. Скажите, как у вас организуется тур? Как избежать ситуаций, когда родственники из-за отсутствия информации начинают волноваться? Вы все это заранее оговариваете − в какое время выходите, в какое возвращаетесь?
− Конечно. Самое дальнее у нас − выход на Онекотан. Это может быть и на несколько дней, т.е. Онекотан плюс Атласова. И мы туристам говорим, что, условно, в субботу мы утром вышли, воскресенье − там, в воскресенье вечером вышли, в понедельник зашли на Атласова. Условно, нас три дня не будет.

Я в этом году, как правило, оставалась на Парамушире. У нас на судне стоит прибор учета, отслеживания, и я просто через компьютер смотрю, где находится судно, с какой скоростью оно идет и т.д. Это первое.
Второе − у нас есть спутниковые телефоны, и если что-то пойдет не так, мне позвонит или Марк, или гид. Когда корабль уже стоит в бухте, Марк (или капитан) высаживает людей на берег. И у гидов (у нас два гида: один впереди идет, второй замыкает) есть радиостанции, они постоянно на связи с кораблем. Если, например, человек не может идти, второй гид − замыкающий – возвращает людей. Но это очень редко, это на Эбеко больше бывает.
На Эбеко сейчас связь хорошо работает. Гиды мне постоянно пишут, у нас есть контрольные точки: 600 метров, плечо Неожиданного и вершина Эбеко. С этих точек хорошо берет связь. И когда основной гид подводит группу к этим точкам, он пишет: «Мы на 600 метрах», «Мы на плече Неожиданного», «Мы на вершине». Потом мне гид пишет, что они начинают спускаться, и т.д. Когда они подходят к точке, откуда мне надо звонить и вызывать машины, чтобы их забрали, мне гид звонит и говорит: «Мы через 30 минут будем на точке, где машины забирают».

Мы постоянно на связи, постоянно за всем следим, потому что ответственность большая и не дай Бог что.
− Я посмотрела цены туров на Курильские острова, они достаточно сильно отличаются порой. Что бы вы могли посоветовать туристам, которые хотят приобрести такой тур, какие вопросы им следует задать организаторам, чтобы убедиться в безопасности?
− Спросить про квалификацию гида, например. Про аптечку спросить, какая связь есть у гида с организатором туров на маршрутах, какое судно будет работать, что на судне есть из спасательных средств, как высадка происходит. Потому что у нас есть люди, которые возят туристов и высаживают их на лодке без спасательных жилетов. Мы заставляем всех надевать спасательные жилеты, даже если штиль и даже дуновения ветерка нет, это обязательно.
Все суда имеют свой максимальный порог по загруженности. Если мы берем наше судно, у нас получается всего лишь 8 туристов, 2 гида и 2 члена экипажа. И у нас спасательных средств рассчитано ровно на это количество: спасательный плотик на 12 человек, спасжилетов на 12 человек (не жилетов, которые для высадки на лодке, а именно спасжилетов). У нас лодка немаленькая для высадки.
Просто многие этим всем пренебрегают и вместо 12 человек берут 20 человек. И у меня сразу вопросы: «А кто с кем будет спасательный жилет делить? Где размещать людей будут?» Потому что есть яхты парусные, там места внутри не так уж и много, они могут брать по документам 9 человек, но они берут 13. А где люди спать будут? Яхта неэргономична, там нет лишнего сантиметра неучтенного, а тут человека положить надо.
− Вы как организатор тура принимаете заявки от всех желающих или кому-то можете отказать по каким-то причинам?
− Я отказывала двум девчонкам. Меня спросили: «А если я сломаю ногу, что вы будете делать? Как вы меня будете эвакуировать?» То есть человек уже настроен где-то сломать ногу. Я им отказала. Я не боюсь этого, но просто человек едет с отрицательным настроем.
А у нас в плане организации по факту не тур, а экспедиция. То есть у нас хоть план и прописан, но у нас ни у одной группы не было одинакового тура. Например, с группой, которая приехала сразу после цунами, 1 августа, у нас был только дневной переход на судне, потому что очень много мусора плавало. И мы решили, что только в светлое время суток будем ходить, чтобы видеть весь мусор, чтобы, не дай Бог, никуда не врезаться. И переход на Онекотан плюс Атласова занял не два дня, как мы обычно делаем, а три.

Люди были три дня в море, были ночевки на судне больше, чем планировалось изначально. Ко всему этому надо быть готовыми. Может погода вообще внести свои коррективы: у нас была в июле группа, и семь дней, не прекращая, лил дождь. То есть люди должны в целом осознавать, что они едут не в Сочи, не в Крым, они едут на острова, где погода нестабильная. Они не должны ехать за этой красивой картинкой, что всегда солнце будет. А ехать и надеяться, что все будет хорошо, но осознавать, что может быть вообще все плохо в плане погоды. Я не могу вам сказать, что вы приедете в начале августа и у вас будет шикарная погода, или в июле, каждый раз все по-разному.
− Когда я была в Северо-Курильске, в день приезда мне с погодой повезло. Мы и к океану сходили, и солнышко выглядывало, и Эбеко себя показал, причем не один раз, хотя я там была буквально несколько дней. У меня была немного иная ситуация − я приезжала в гости. Но если бы я ехала с туристической целью, с большой вероятностью остановила бы выбор именно на вас, потому что в вашу команду входят две собаки хаски. На меня бы это подействовало безотказно.
Расскажите, пожалуйста, как у вас появились собаки и откуда эта любовь к собакам?
− Когда я на Камчатке ходила в походы, я очень хотела собаку. Но, так как я жила в квартире, работала в техникуме, могла в восемь утра уехать и в десять вечера приехать, я понимала: что это бедная собака будет целыми днями пять дней в неделю делать? И когда я на остров переехала, как-то так получилось, что Марк тоже был не против собаки. Мы завели Айю, черно-белую девочку. Но я хотела двух собак. Марк был против двух собак, но в итоге у нас появился Айс, черно-белый мальчик. К сожалению, его застрелили. И где-то через полтора года мы завели Зюйда, который белый. Но Зюйд − это, конечно, катастрофа. Вот сегодня мы его оставили на два часа, он разнес прихожку. Он содрал все обои, нам пришлось ему покупать клетку для дома. Вот он теперь будет в клетке сидеть. На самом деле очень такой проблемный пес.

Но Айя молодец. Айя в целом очень быстро соображать начала, она очень азартная, охотница, от медведей защищает. Зюйд еще медведей не видел, поэтому я не могу сказать. Но Айя гоняет медведей. Мы собак заводили, когда еще туризмом коммерческим не занимались, мы для себя Айю завели, потом Айса. Просто хотелось собаку.
− А почему именно на хаски остановили выбор?
− Просто были щенки в Северо-Курильске, хаски. Так получилось. Я ничего не знала про эту породу.
− Принято считать, что они свободолюбивые, что это не для дома собаки. Это так?
− Да, но мы с ними много времени проводим, много гуляем, поэтому у меня собаки порой настолько уставшие, что я утром их бужу в девять утра погулять, они вот так глаз один открывают: «Ты в своем уме? Мы еще поспим». Чтобы вы понимали, в пять утра я не выхожу с собаками гулять, у нас собаки к нашему расписанию привыкли, раньше восьми − девяти утра, а то и десяти мы вообще не выходим с ними гулять. И в двенадцать ночи я с ними не гуляю, мы гуляем в девять − десять вечера. Бывает, если им приспичит или какое-то расстройство кишечника, естественно, мы с ними выходим.
− После того случая с Айсом вы собак стараетесь одних не отпускать, да? Не выяснилось, в чем была причина такой агрессии, почему застрелили собаку?
− Я не знаю, есть только догадки. Даже если Айс, как он говорит, к его течной суке подходил, он мог спокойно позвонить, потому что знал, чья это собака, и сказать: «Ребята, заберите собаку, чтобы я его больше не видел здесь». А он просто взял и сразу застрелил. По мне это просто какая-то скрытая агрессия к людям, к нам − я не знаю.

− Такие случаи не только у вас бывают, к сожалению.
Вы упомянули, что Айя отпугивает медведей. Но не так давно я прочитала, что собак наоборот рекомендуют не брать, потому что они могут спровоцировать медведя.
− Все от собаки зависит. Просто мать Айи − медвежатница, хозяин ее матери с ней ходил на охоту. И Айе это передалось. В целом, когда с собакой идешь, не так страшно, хотя я знаю, как от медведей защищаться, что делать и так далее.
На Камчатке их неоднократно видела. Но на Парамушире я семь с половиной лет живу, медведей с десяток раз только видела. И то они где-то там далеко были, им неинтересно было. Один раз в этом году я видела медведя, в прошлом году два раза видела, как на Эбеко идти.
− Я читала у вас в новостях, что было все-таки нападение медведя на людей, хотя ранее этого не наблюдалось. Это с цунами связано, говорят, что рыба ушла?
− Да, они сейчас голодные, рыбы нет.
− Больше стало предупреждений, как себя вести при встрече с медведем?
− Вы должны понимать, что нельзя бежать от него, вы не убежите в любом случае. Как у нас в турклубе говорили, кто умнее, тот и уйдет, и не всегда это человек. В этом году мы пошли с туристами и нам навстречу вышел медведь. Он просто шел. Мы приняли решение с гидами, что мы возвращаемся обратно в город, что мы не пойдем, вот и все. А медведь так шел и шел.
У нас есть фальшфейера у всех, есть сигнал охотника, ракетница, есть звуковые сигналы на случай этот, но ничего из этого мы не применяли. Мы носим это с собой. А так… В прошлом году два медвежонка, которых мать, видимо, отправила уже в самостоятельную жизнь, около вулкана ходили, чуть ниже 600 метров. Но они сами убегали. Они из кедрача вылазили. И мы идем по тропе − сколько там, метров 50. И они деру давали.
− Недавно была годовщина курильской десантной операции, в связи с этим больше внимания сейчас уделяется острову Шумшу? Там что-то было отреставрировано, подготовлено именно в плане туризма?
− Шумшу − большой остров по факту. Именно где десант был − это северная часть острова. Там действительно в этом году и реконструкция большая проходила, и лагерь большой.
Мы туда в этом году туристов не водили. Что в этом году, что в прошлом мы экскурсии делали в поселке Байково − это где аэродром бывший, сам поселок, японские памятники. На маяк Чибуйный периодически ходили. Если группа хорошо ходит, мы гуляем с ними до маяка, если группа уже устала или плоховато ходит − только по окрестностям Байково.

Еще может от погоды зависеть, очень много факторов.
Запросов до этого года именно на северную часть, где военные действия происходили, было очень мало. Все хотят сейчас природу смотреть, Онекотан в основном. Когда у нас в первый день группа прилетает и мы с ними до обеда ходим на экскурсию по городу, я основные аспекты рассказываю. И если они интересуются десантом, я чуть больше рассказываю, но очень мало кто интересуется на самом деле. И это не связано с гендерным признаком. Условно, женщина может спрашивать, а мужчина не будет спрашивать.
− И в завершение такой вопрос. До Камчатки и добраться легче, и вулканов там больше, и музеев. А что особенного есть на Северных Курилах, ради чего все же стоит долететь на вертолете/доплыть на «Гипанисе» до Северо-Курильска?
− Это новые места. Я по себе вам скажу, что когда я начинала туризмом на Камчатке заниматься, на тот же Вачкажец (это сейчас один из самых популярных маршрутов) если в выходной день встретить еще одну группу − это было что-то. А сейчас там до двухсот человек можно за день увидеть. Мне так кажется, что люди ищут все более дикие места. Об Онекотане же раньше какая была реклама − что его посещают не более 100 человек в год. Сейчас эта цифра намного больше, но, несмотря на популярность Парамушира и Эбеко, куда вы можете сами добраться (вам не надо покупать тур, вы прилетели просто в Северо-Курильск и пошли на Эбеко), даже сейчас можно быть на Эбеко только со своей группой и наслаждаться этим. Но большинство, мне кажется, едут только из-за вулкана Креницына.
Фото и информация: