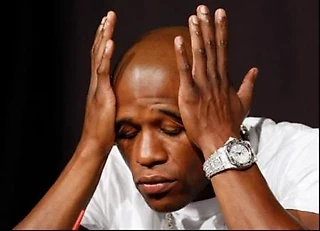Спортивный квартал
Околоцвето’чная церемония
Все сроки уже вышли. Позвонить обещали в понедельник – при любом раскладе. Сегодня, вроде, и есть понедельник, да только неделя уже следующая.
Ладно – не прошёл и не прошёл. По правде сказать, моя внезапная идея ехать поступать на какие-то курсы за тридевять земель и выглядела авантюрой с самого начала. Если не сказать большего. Значит, будем искать дальше.
И вдруг – звонок.
«Ростислав, это Алик Бегларян … Я Вас поздравляю – вы прошли конкурс … От Шмурнова – четверка, от Рабинера – тройка … Но вы не расстраивайтесь – тройка от Рабинера – это очень хорошая оценка. Просто он строг…»
Расстраиваться?! Да какое там! «Алик, а уж коли, это Школа спортивной журналистики – какое место я занял в общем зачёте?» Алик явно не ожидал такого вопроса, но, судя по шороху бумаг в трубке, честно стал куда-то заглядывать и что-то прикидывать. «Знаете, Ростислав, точно не скажу, но, примерно семнадцатое», – и снова: «Но вы не расстраивайтесь…»
Добрый Алик! Семнадцатое место из двадцати шести прошедших конкурс. Для меня, писавшего в последнее время тексты исключительно из серии: «Уважаемый …! Настоящим письмом ЗАО «…» доводит до Вашего сведения…» – сам факт поступления был настоящим триумфом. Да – не в призах и даже не в цветочной церемонии, но ведь семнадцатый из шестидесяти участников! Я был чертовски доволен собой. И расценивал это исключительно как победу.
Поехали!
Всё лето прошло под знаком того, что 8-го сентября – начало занятий. Осень наступила. И понеслось: «Сапсан», гостиница, обучение, «Сапсан». Вторник-пятница. Я во второй – старшей – группе.
С самого начала обучения я почувствовал себя совершенно в своей тарелке. На установочном занятии Игорь Рабинер и Александр Шмурнов рассказывали нам о том, как построен учебный процесс, о работе журналиста, о принципах, которым должен быть привержен человек, пишущий о спорте. Рассказывали искренне и просто. Никакого высокомерия и зазнайства. Общение равных с равными. Это невероятно подкупало. Странное ощущение охватило меня тогда – всё произносимое было как-то очень созвучно моему мировосприятию что ли. Как-будто я это уже где-то слышал. Может показалось? Как знать, как знать…
Первые четыре занятия по отдельным дисциплинам запомнились тем, что приходилось знакомиться друг с другом на каждом из них. Не из-за плохой памяти – нет. Группа, конечно, старшая, но не до такой степени. Просто преподаватели везде новые – им тоже хотелось узнать нас несколько ближе. Так и перезнакомились друг с другом по нескольку раз – ну, чтоб уж наверняка. Ночью разбуди – а о любом соратнике по перу хоть пару характеристик, но выдал бы точно.
Что ещё интересно и необычно – почти на каждом занятии выявлялись какие-то совпадения в характерах, взглядах, даже случаях из жизни с кем-нибудь из сокурсников. Ну вот, например, Саша Якубович узнал о школе, прочитав статью Шмурнова о южноамериканском футболе. В конце которой, была сноска: Шмурнов – один из основателей Школы спортивной журналистики. Александр кликнул по ссылке – и понял, что сюда-то ему и надо. К чему я это? Да просто услышанное – это моя история, с той лишь разницей, что я кликал на подобную ссылку из статьи о Рабинере… Как меня занесло на страницу википедии об Игоре, а Якубовича – на сайт с южноамериканским футболом – ни я, ни он внятно объяснить не можем. И подобные забавные совпадения среди слушателей – далеко не единичны.
В целом, в группе сложилась какая-то удивительно комфортная, дружеская атмосфера, сдабриваемая беззлобными шутками, каламбурами, весёлыми пикировками, способности к которым, судя по всему, у каждого присутствовали с рождения.
Взаимопонимание и взаимоуважение укрепилось ещё больше после первого же совместного похода в «Пилснер» с целью познакомиться поближе. Первого, но далеко не последнего.
Дааа – в таком коллективе можно не только творить, но и натворить чего-нибудь весёлого, да запоминающегося.
О чувстве
Так что же объединяет всех этих парней, пришедших или только стремящихся попасть в профессию? Что привело всех нас сюда?
Может быть – увлечённость? Или даже любовь к спорту вообще и к футболу, в частности. К этому странному для непосвящённого человека занятию. Кто-то пожмёт плечами и удивится: «Да что тут можно любить?»
Ну как тут объяснишь? Как обрисовать мальчишеский трепет, охватывающий тебя перед началом какого-нибудь большого турнира – Чемпионата мира или Европы. Сравнить который можно, разве что, с волнением на первом свидании. Когда ждёшь чего-то необъяснимого, но очень-очень хорошего. Какой-то сказки и чудес. Команды выходят на поле, судья с подставки берёт мяч, играют гимны, напряжённые лица игроков. Ты погружаешься в иную реальность, в которую уже откуда-то издалека доносятся звуки внешнего мира. Что-то вроде: «Слав, а ты мусор-то вынес?» Причём это странное состояние не проходит с годами. Оно только усиливается. Становится более зрелым и глубоким. Начинает двигать мысли в сторону философии. И вот ты уже проводишь параллели с реальным миром: футбол – это театр, это искусство, это жизнь. Ты понимаешь, что болен, но желания лечиться нет.
А эти ощущения от большой победы любимого клуба или сборной – будь то золото чемпионата России, Кубок УЕФА или почётное третье место на Чемпионате Европы. Эти плачущие в прямом эфире какой-нибудь радиостанции люди. Кто-то скажет – психоз. Да нет, дорогие мои, это не психоз. Это просто любовь. Все симптомы те же. Только объект обожания – не лицо противоположного пола, а спорт. И что интересно – в отличие от той, «человеческой» любви, люди, «втрескавшиеся» в спорт, не чувствуют соперничества друг с другом. А даже наоборот – приветствуют каждого влюблённого в тот же объект обожания.
Такого ненормального видно издалека. Говорить с ним – всегда приятно. И нет каких-то барьеров и неловких пауз. Да – эти люди разные. Но всепоглощающий интерес к спорту объединяет их и выявляет схожие черты: жажду справедливости, чувство юмора, умение видеть прекрасное в этих «движениях мяча». Ну, или для любителей бокса, например – в этом соединении боксёрской перчатки с чьей-то на миг зазевавшейся физиономией.
Как всё это работает – я не знаю. И разбираться не хочу. Для меня – это магия и метафизика. Объяснять волшебство с помощью логики и математики нет никакого желания.
Так как же?
Как изменилось моё представление о спортивной журналистике за три прошедших месяца? За этот неровный квартал – с восьмого по восьмое. Попробую ответить.
Что я знал о работе спортивного журналиста? Да ничего, пожалуй. А любое число, умноженное на ноль, даёт ноль. Поэтому, чтобы не остаться в итоге на месте старта – за точку отсчёта возьмём ноль целых и «дцать» знаков после запятой.
Хотя нет, постойте. Кое-что я всё же знал: «Давай, Зайка, давай!» Дмитрия Губерниева; «берегите себя» и «сдвоенный центр» Виктора Гусева; «слётанной парой» Сергея Ческидова; истошные крики Алексея Попова, пугающие моих домочадцев и заставляющие делать звук телевизора тише; профессиональные комментарии матчей от футбольных нтвшников, чьи голоса научился различать только пару лет назад, поставив себе такую цель; подробные статьи Игоря Рабинера, содержание которых заставило запомнить имя автора; мягкие интервью в исполнении Бориса Левина; комментаторство любимого Владимира Стогниенко; неординарную манеру освещения матчей в исполнении чемпиона Европы Владимира Маслаченко, имевшего право, думаю, на всё. Ещё знание фамилий мэтров – Синявского и Озерова. Билет на хоккей с автографом последнего даже есть у меня в домашнем архиве.
Что теперь? Как изменилось моё восприятие этой профессии после регулярного общения с теми, кто уже в ней – Игорем Рабинером и Николаем Саприным? С теми, кто ещё на пути – с моими сокурсниками. После встреч с настоящими профессионалами спортивной журналистики: Александром Шмурновым, Львом Россошиком, Дмитрием Симоновым, Александром Кружковым, Ильёй Казаковым, Игорем Швецовым.
Да всё просто – теперь я знаю, что в этой сфере человеческой деятельности работают или стремятся туда попасть люди, с которыми мне интересно. Интересно общаться, интересно проводить время, интересно слышать неожиданный или наоборот неожиданно совпадающий с моим видением какого-то события комментарий. Я чувствую себя в среде единомышленников. Здесь та же магия и метафизика, что и в любви к футболу.
Возможно, та атмосфера, что сложилась в школе – заслуга Игоря Рабинера и Александра Шмурнова, проводивших собеседование с каждым кандидатом при поступлении. И как я понимаю, обращавших внимание не только на их литературные способности, но и, вероятно, оценивая адекватность, доброжелательность и степень помешанности на спорте. А может, просто интуитивно это понимающих – в силу своего опыта. Означает ли это, что состоявшиеся спортивные журналисты хотят видеть в этой профессии людей, похожих на тех, кто в школу поступил? Не знаю.
Знаю лишь то, что мне нравится тот состав, который получился в итоге. Если такими и должны быть настоящие спортивные журналисты, то мне нравятся эти парни! Спокойно! Это сказано в самом правильном смысле этих слов. Потому что в каждом из них я вижу настоящего мужика. Честного, умного, обстоятельного, справедливого, иногда в чём-то «безбашенного». Который, если что – молчать не станет. И не будет шушукаться за твоей спиной, а выскажет тебе всё прямо в глаза.
Со всем присущим ему чванством*.
Вероятно, в этом и есть смысл работы спортивного журналиста – не бояться говорить, если понимаешь, что прав. Говорить честно, спокойно и по делу. Без крика и брызганья слюной. Однако перед тем как сказать – взвесить на своих внутренних весах последствия того, что хочешь сообщить миру. Чтобы просто понять – станет ли он гармоничнее от твоих слов, или как раз, наоборот.
Ну и, конечно, надо помнить, что если пишешь о людях, то и самому надо оставаться человеком, не унижая и не уничтожая никого написанным тобою словом.
______________________
* Чванство – специально используемый в старшей группе Школы спортивной журналистики профессиональный термин, имеющий исключительно позитивную окраску и обозначающий – бескомпромиссность и прямоту.